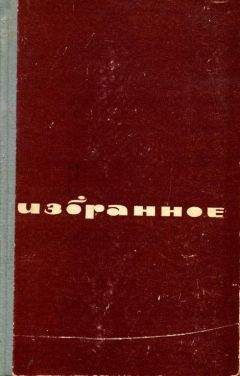— За что? — спросил Гринька, глотая слезы обиды.
— Ха! — хохотнул шкет. — Ты откуда сюда примахнул? Расселся, фраер, тут, на чужом месте, да еще вопросы спрашиваешь?
И он легонько смазал Гриньку еще раз по затылку.
Мигом возле магазина собрались беспризорники. Они громко высказывали предположения, что Гриньки не было на месте, когда раздавали ум, и советовали оборванцу устроить новенькому «макароны».
Однако шкет ограничился угрозами и смылся. Огольцы тоже рассосались по окрестным улицам.
В конце концов, со всем этим можно было помириться. Тут не было ничего такого, очень уж страшного. Ну, треснут еще раз по шее. Подумаешь! А может, Гриньке удастся сколотить свой рубль до неведомых ему, но, несомненно, не очень-то приятных «макаронов»?
Гринька хорошо осмотрелся вокруг.
Неподалеку от магазина, у грубо сколоченных ящичков, сидели Гринькины сверстники, стучали щетками о ящики и орали во всю ивановскую:
Эх, крем-гуталин!
Почистим, гражданин!
Гринька тоже постучал щетками и выкрикнул: «Эх...» Но закончить свой пламенный призыв, завлекающий клиентов, не успел.
На' него искоса упала огромная тень. Радуясь появлению первого клиента, Гринька поднял голубые глаза и... похолодел от ужаса: перед начинающим чистильщиком стоял, широко раздвинув ноги, усатый, рыжий и, с первого взгляда видно, свирепый милиционер.
— Патент! — рявкнул милиционер, и его огненно-желтые усы взлетели вверх, как костер.
— Чего? — спросил Гринька и заморгал глазами.
— Где, говорю, патент? — сощурился вооруженный представитель власти. — На право чистки. Не понимаешь?
Гринька не понимал.
— Нету, — произнес он растерянно. — Позабыл дома, дяденька.
— Позабыл... — усмехнулся милиционер, и его нестерпимо горящие гуталинным блеском сапоги придвинулись к самому Гринькиному лицу. — Чтоб я тебя больше здесь не видел. Поймаю еще раз — и конец. Понял?
Он бросил хмурый взгляд вниз, подергал себя за усы и ушел.
Потом вернулся и сказал Гриньке:
— Здесь Советская власть, а не капитал. Она не терпит, когда мелкота деньгу зашибает. Тебе, дураку, учиться надо. Иди, сломай свой ящик.
Гринька любил Советскую власть, за которую погиб отец, и, кроме того, у мальчишки не было никакого желания найти свой «конец» от боевого оружия милиционера. Все-таки Журину только-только исполнилось девять лет, и, следовательно, он был совсем молодой человек, которому жить да жить.
И, глотая противные соленые слезы, он закинул свой великолепный сапожный ящик, покрытый розово-малиновой краской, в дальний угол сарая.
Приобретение голубей снова становилось неразрешимой проблемой и отодвигалось в туманную даль неизвестного будущего.
Мать не замечала этих судорожных попыток сына заработать деньги, и даже Гринькины отлучки с сапожным ящиком прошли мимо нее.
Ей можно простить это неведение, если знать, что Гринькиной маме в ту пору приходилось туго. Надо было кормиться и обшиваться, платить за квартиру и дрова, покупать керосин и — сверх этого — приобретать на бойне кости для Ласки. Поэтому мама «крутилась», «валилась с ног» и «сходила с ума».
Но все равно в этой небогатой деньгами и событиями жизни у Гриньки были свои маленькие радости. Главная радость в году — день рождения. В этот день Гринька, просыпаясь, первым делом совал руку под подушку, и там всегда оказывались или пугач, или кулек с конфетками, или новая рубаха. Пугач либо конфеты — стоящая штука, а рубаха всегда вызывала у Гриньки досаду: одежду мама должна ему шить или покупать без всяких именин. А иначе нечего было и рожать.
Теперь Журину должно было стукнуть десять лет, и он полагал, что в этот раз мать положит ему ночью под подушку что-нибудь существенное. В конце концов десять лет случаются не каждый день, и можно рассчитывать на серьезный подарок.
Наконец наступило утро его рождения. Только-только открыв глаза и очухавшись, Гринька запустил руку под подушку и сразу же нащупал там твердый и тяжелый сверток. Он поскорее вытащил его наружу, распутал шпагат и содрал газету.
Перед ним засияли зеркальным блеском, слепя глаза, новенькие снегурочки! Не какие-нибудь деревянные чурки с проволочным полозом, не проржавевшие «англичанки» с двумя зубцами на носу, отслужившие уже свой век на чьих-нибудь ногах, а совсем нетронутые, магазинные конечки.
Мама стояла рядом и, улыбаясь, смотрела на порозовевшее лицо сына.
— Нравятся? — спросила она. — Смотри, сынок, береги их. Другие мне уже не купить.
Гриньке страшно повезло. Если бы сейчас на улице была зима, то он, может быть, еще и помучился бы: совершать мену или нет? Но на дворе полыхало зеленью и солнцем лето, и решение само тотчас залезло Гриньке в голову.
Коротко сказать, в первый же выходной Журин отправился на птичий базар и выменял там свои ни разу не надеванные снегурочки на пару белых вислокрылых горбохвостых голубей.
Само собой ясно, он не сказал матери об этой чрезвычайно выгодной, просто счастливой торговой операции.
Птиц Гринька устроил на чердаке, и они были в связках целую неделю и два дня. За это время голуби хорошо, кажется, освоились с крышей, — ведь они подолгу сидели у водосточного колена или на печной трубе.
Наконец, бледный от волнения и радости, Гринька развязал птиц и осторожно выпустил их на крышу. Голубка прямо с рук пошла в лет. Тревожно помотав головой на коньке крыши, вслед за ней поднялся голубь. Они долго плавали в небе двоечкой, не сходили с круга, даже стали опускаться на крышу. Но перед самым вечером ушли под облака и слились с ними, растаяли.
Гринька до самого утра не слезал с крыши, ни на миг, конечно, не заснул. Он ждал птиц во всю мочь и деревенел от страха.
К утру совсем изморился, устало оглядывал глазами небо, но оно было совершенно чистое, пустое.
И Гринька, обхватив печную трубу, разревелся про себя, и стал глотать какие-то противные слюни, беспрерывно наполнявшие рот.
Наверно, мать, узнав обо всем этом, наподдавала бы Гриньке, но на его счастье после той ночи он заболел. Это даже удивительно, как повезло! Гриньку встряхивало, кидало то в жар, то в мороз. Во сне он бредил, звал к себе птиц и даже свистел.
Но в общем в эти дни жилось совсем неплохо. Во-первых, можно было отдохнуть от школы. Во-вторых, мальчишки из класса валом валили к кровати больного, жалели Гриньку, и Ленька Колесов даже пообещал подарить ему голубят из-под пары николаевских тучерезов. А самое главное заключалось в том, что теперь можно было сообщить матери о мене коньков на голубей, не боясь никаких особенных для себя последствий.